http://93.174.130.82/news/shownews.aspx?id=029b73fa-aea7-4245-aa34-6eef0f8548e6&print=1
© 2025 Российская академия наук
Академик РАН Александр Коновалов – доктор-легенда, крупнейший
специалист в своей области в нашей стране и не только в ней. Здесь нет никакого
преувеличения, это подтверждено его официальным титулом лучшего нейрохирурга
мира, присвоенном в 2019 году в Непале, званием «Герой труда России», которое
он получил первым (2013). Об этом знают сотни его коллег и, что для него
особенно важно, тысячи спасенных им пациентов. Почти 40 лет он руководил
Национальным медицинским исследовательским центром имени Н. Бурденко (прежде –
Институтом нейрохирургии Академии медицинских наук), почетным президентом
которого сегодня является. Александр Николаевич – основатель школы
микронейрохирургии, сделавшей доступным для щадящего хирургического
вмешательства практически любое образование мозга и любую зону внутричерепного
пространства, кардинально расширившей горизонты современной клинической
физиологии и патофизиологии. На его счету – одно из первых в мире успешное
разделение сросшихся головами сиамских близнецов Вилии и Виталии, десятки
других уникальных виртуозных операций. Академик Коновалов – автор более 400
научных работ, в том числе 15 монографий, справочников, учебников, изданных в
России и за рубежом, под его руководством защищено 45 кандидатских и докторских
диссертаций. При этом в личном общении он остается скромным, очень обаятельным
человеком, замечательным собеседником, начисто лишенным какого-либо апломба и
пафоса. В этом мы убедились во время нашего «демидовского» интервью в его
рабочем кабинете, за которое ему очень благодарны. Показательно, что по времени
оно практически совпало с важным событием для НМИЦ имени Бурденко: на днях
здесь вышли на рубеж в 10 000 операций в год, и это еще одна блистательная веха
в истории Центра.
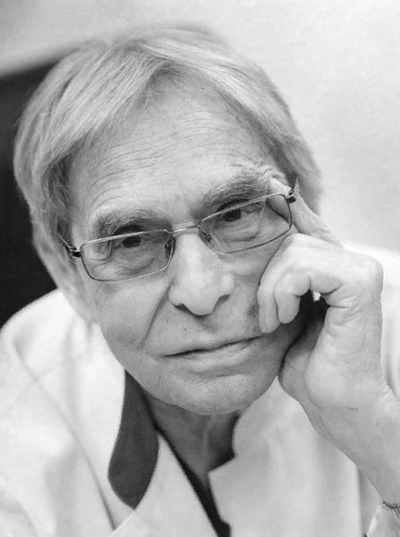
– Глубокоуважаемый Александр
Николаевич, наград, причем самых высоких, вам не занимать. Как вы отнеслись к
известию о том, что вам присуждена Демидовская премия?
– Для меня это высокая честь. Большое
впечатление производит предыстория нынешней премии, которой были удостоены
такие ученые, как Менделеев, великий хирург Пирогов. А среди лауреатов
современной версии награды – хорошо знакомые мне люди, близкие коллеги академики
Анатолий Иванович Григорьев, Владимир Иванович Кулаков и, конечно, – Виктор
Сергеевич Савельев, с которым мы много лет дружили.
– Расскажите о вашей
родословной. Ведь вы далеко не первый доктор в семье и продолжаете славную
медицинскую династию…
– Да, это так. Я родился на территории
больницы (теперь она называется 4-й Сокольнической), строительством которой
руководил мой дед Степан Павлович Галицкий, он был ее первым главным врачом и
главным хирургом. Мать много рассказывала о том, как его любили, каким
авторитетом он пользовался. Когда его не стало, в доме долгое время хранился
сундук, доверху наполненный траурными лентами. Но больше всего меня поразили
слова о деде нашего знаменитого хирурга академика Бориса Васильевича
Петровского. Однажды, в бытность его министром здравоохранения СССР, он
спросил: «А кто был ваш дед?» Я ответил, и Петровский изумленно воскликнул:
«Как? Степан Павлович Галицкий – отец московской хирургии?»
Мой отец Николай Васильевич был
известным неврологом, вице-президентом Академии медицинских наук СССР. Это был
яркий, очень одаренный человек с фантастической памятью, прожил интересную
жизнь, встречался со многими талантливыми и даже гениальными людьми. Он окончил
московскую классическую Петропавловскую гимназию и владел восемью языками,
некоторые знал в совершенстве: по-немецки говорил не хуже, чем по-русски.
Учился и дружил со знаменитым актером и режиссером Максимом Штраухом, великим
Сергеем Эйзенштейном. Врачом была и моя мама, Екатерина Степановна. В молодости
она мечтала стать хирургом и стала им, но, когда у нее родились трое детей,
вынуждена была сменить специализацию на инфекциониста, потому что можно было
работать сутки через двое. При этом специалистом она была удивительным, помогла
многим людям, в том числе в уральской глубинке.
– Есть и такая страница в вашей
семейной истории?
– Есть. Во время войны мы оказались в
эвакуации в Свердловской области, в маленьком городке Красноуральске, провели
там почти два года. В то время в плане экологии это было страшное место: «благодаря»
медеплавильному заводу километров на десять в округе – ни одного зеленого
листочка, в небе – желтые облака сернистого газа. Было очень трудно дышать,
постоянно текли слезы. И мама была там очень востребована, потому что оказалась
единственным специалистом, который умел интубировать детей (интубация –
медицинский способ обеспечения проходимости дыхательных путей с помощью
специальной трубки – ред.) И как раз в тот период была эпидемия дифтерии,
многие дети задыхались от крупа – острого воспаления трахеи, следствия этой
болезни. Почти каждую ночь раздавался стук в нашу дверь, приходили родители,
умоляли о помощи, и она исчезала, чтобы спасти очередного ребенка.
Кстати, спустя много лет я вновь побывал
на Среднем Урале и попросил Эдуарда Эргартовича Росселя, одного из инициаторов
возрождения Демидовской премии, свозить меня в Красноуральск. И буквально не
узнал город: он был весь в зелени и легко дышалось.
– А как вы пришли в
нейрохирургию? Ведь это не совсем родительская стезя…
– Вообще-то сначала я собирался стать
неврологом, потому что воспитывался в такой обстановке. Представьте: довоенное
время, нет ни радио, ни телевидения, основные занятия интеллигенции – общение,
в том числе профессиональное, чтение книг. А у нас в доме всегда собирались
люди, близкие матери и прежде всего отцу, известные ученые, очень яркие
специалисты. И они обсуждали больных, их истории. Для детского восприятия это
было очень увлекательно: непривычные слова, загадочные названия болезней. Когда
подрос и стал понимать больше, я стал ходить в НИИ неврологии, который
возглавлял мой отец, на клинические разборы, и это было гораздо интереснее, чем
читать хороший детектив: по форме – то же самое, но гораздо компактнее и
конкретнее. В течение полутора-двух часов собираются улики, то есть анамнез и
основные симптомы болезни, сопоставляются с аналогичными изменениями,
описанными в литературе, выдвигаются версии, и, наконец, на основании
безупречных логических построений, выносится приговор – ставится диагноз. На
меня это производило огромное впечатление, и я очень хотел этим заниматься. Но
получилось так, что в то время это было невозможно, семейственность во
врачебной среде не поощрялась, и когда я с отличием окончил Первый Московский
мединститут, отец посоветовал мне пойти в ординатуру в Институт нейрохирургии,
поскольку там была очень хорошая неврологическая школа. Я пришел на беседу к
директору академику Борису Григорьевичу Егорову, с которым отец был хорошо
знаком. Он рассказал, что такое нейрохирургия, какие проблемы перед ней стоят,
чем предстоит заниматься, и это показалось мне интересным.
Первые мои впечатления от нейрохирургии
были неоднозначными и даже тягостными. Операционные – их тогда было всего пять
– располагались в домовой церкви. Это огромное помещение, высоченные потолки,
операционный стол, небольшое возвышение, с которого можно видеть, что
происходит. И когда я впервые туда пришел, мне стало дурно. Два хирурга с
шахтерскими лампочками в полной темноте заглядывали в маленькое отверстие в
черепе пациента, что-то там делали, а вокруг распространялся удушливый запах
горящей плоти, которую рассекали с помощью электроножа. Я чуть не потерял
сознание. Но постепенно я увлекся нейрохирургией, ее исключительными
возможностями избавлять людей от смертельного недуга. Пригодились мои «неврологические»
знания и опыт. С тех пор вот уже шестьдесят пять лет я тружусь на одном месте.
– За это время в медицине вообще
и вашей области особенно произошла настоящая революция. В чем главные отличия
«просто» нейрохирургии от микронейрохирургии?
– Действительно, медицина меняется с
сумасшедшей скоростью. Сегодня, с высоты прошедших лет, я и сам иногда не могу
поверить, что раньше мы работали, по сути, ничего не имея. Микрохирургия в
нашем институте начала развиваться в начале восьмидесятых годов прошлого века,
в мире несколько раньше. До этого такие мастера, как Б. Г. Егоров,
блистательный А. И. Арутюнов оперировали без микроскопа, пользуясь своим
зрением, а часто просто ощущениями. Помню такую картину: мой учитель А. И.
Арутюнов делает операцию, вокруг него толпа врачей и студентов (он любил
показывать и рассказывать, что и как делает), Александр Иванович, не глядя в
рану, пальцем обходя опухоль, поясняет: «Вот я чувствую сосуд, вот его
клипирую, вот я его пересек, вот второй сосуд…» и через несколько мгновений
вынимает из раны опухоль. Это было великое мастерство и производило
впечатление, но после таких операций было много осложнений и не могло не быть.
Микрохирургия все изменила, дала врачу возможность различать структуры мозга
размером в миллиметр и меньше и сохранять их, что резко повлияло на исход
операции. Появились новые разделы нейрохирургии – такие как сосудистая (лечение
инсультов, разорвавшихся аневризм и других сосудистых заболеваний мозга), стало
возможным удалять сложные глубинные, ранее неизлечимые опухоли. За последние
десятилетия пройден колоссальный путь.
– И пионером всего этого был
академик Коновалов?
– Ну, пионером я был в рамках страны,
нашего института. Нужны были особые условия, оборудование. Специальных
отечественных микроскопов в то время не было, и когда у нас, наконец, появился
первый импортный микроскоп, пришлось решать сложную техническую задачу. Дело в
том, что крепление у него было потолочным, высота операционной, бывшей церкви,
составляла порядка 6 метров, поэтому подвесить его так, чтобы с ним было удобно
работать, оказалось очень непростой проблемой. Мы обратились за помощью к
ракетчикам, на завод имени Хруничева. Пришли хорошие специалисты, посмотрели,
подумали и сделали особую ракету, которая соединяла оборудование с потолком.
Таким было начало микрохирургии. В современных операционных – а у нас их
десятки – напольные микроскопы, не требующие фиксации.
– Но чтобы появились такие
операционные, нужно было построить новые помещения, замечательный 14-этажный
корпус, многое еще, и этим тоже почти сорок лет занимались вы…
– Не только я, весь коллектив.
Директором института, впоследствии Центра, я стал в 1975 году, и уже тогда
встала проблема нехватки помещений. Историческое здание в Первом
Тверском-Ямском переулке, построенное в 1902 году, в котором тогда находился
институт, было совершенно не приспособлено для медицинских целей.
Строительство 14-этажного корпуса
продолжалось четверть века, и к 2000 году нам удалось его полностью оснастить и
открыть. Но на этом остановиться было невозможно – развитие всегда ставит новые
задачи. Пришлось и расширить операционный блок, и открыть очень важное
отделение радиохирургии – единственное тогда в стране, оснащенное самыми
современными приборами. Позже была решена еще одна важная задача – создание
реабилитационного центра. Больные после сложных операций, перенесшие тяжелые
черепно-мозговые травмы, инсульты, сразу не поправляются – процесс реабилитации
для них очень важен, часто важнее, чем само лечение, сама хирургия. Прежде
условий для этого не было, а теперь такой центр для самых тяжелых больных
действует в Подмосковье, близ Солнечногорска. Уверен, что у него большое будущее.
– Демидовская премия
присуждается по совокупности достижений, а совокупность ваших, что называется,
зашкаливает. Что из сделанного вы считаете наиболее важным? И каковы сегодня
позиции нашей нейрохирургии, Центра Бурденко в частности, в мировом масштабе?
– Уровень нашей нейрохирургии, если
говорить о мастерстве врачей, как минимум не хуже, а может быть и лучше, чем в
остальном мире, в том числе благодаря концентрации в нашем Центре больных со
сложной нейрохирургической патологией. Важно, что подобные центры создаются во
многих регионах страны.
Что касается моих достижений и,
разумеется, не только и не столько моих, самое главное – это коллектив, люди,
которые выросли в нашем Центре. Сейчас, когда я перестал быть директором, у
меня больше свободного времени, я хожу по операционным, смотрю, как оперируют
больных и поражаюсь, насколько уникальны наши специалисты, некоторым из них нет
равных. Один пример. Мой ученик, профессор Давид Пицхелаури сам
усовершенствовал хирургический микроскоп, создал устройство, позволяющее
управлять им только движением головы. Во время операции хирург получает
возможность видеть все детали исключительно четко и в большом увеличении, что
позволяет удалять очень сложные опухоли через небольшое отверстие в черепе. Это
фантастика, аналогов я не знаю. Виртуозные вещи делаются и в соседних
операционных. В нашем Центре коллектив высочайших профессионалов, причем
складываться он начал не при мне, а гораздо раньше: при основателе института
Бурденко, его последователях, академиках Егорове, Арутюнове. Это школа,
создававшаяся многими поколениями, причем не застывшая, не зацикленная на
прежних успехах, а постоянно развивающаяся, несмотря на все трудности и
перемены, которые происходят в стране, динамично осваивающая и впитывающая все
новое. И это главная ценность, которой можно гордиться.
Источник: газета «Наука Урала» УрО РАН.
Беседовал Андрей Понизовкин.
Фото: Сергей Новиков.