О том, чему можно
научиться у зимнеспящих организмов, как управлять собой и почему это важно, а
также о том, как сохранить здоровье и интерес к жизни, рассуждает академик
Маркс Борисович Штарк, руководитель научного направления Федерального научно-исследовательского
Центра фундаментальной и персонализированной медицины СО РАН.

Академик Маркс
Штарк
— Маркс Борисович, мы с вами беседуем на конференции
молодых ученых, и на бейдже ваше имя написано неправильно — Марк. А ведь вы
Маркс. В честь Карла Маркса?
— Говорят, когда
Маркса спросили, что главное в жизни, он ответил: «Борьба». Не знаю, что думали
мои родители, когда я появился на свет и когда они придумали это имя. Но — да,
так получилось, что практически ничего само сверху не падало. Все приходилось
делать в преодолении, в борьбе. И так до сих пор, не знаю, это хорошо или
плохо, но это так. Думаю, что у коллег с другими именами все обстоит похоже.
— Знаю, что вы родились в Одессе и, будучи совсем
ребенком, узнали, что ваш отец репрессирован. Это так?
— В 1937 году мне
было шесть лет. Отец был арестован и сослан в Коми ССР, в небольшой поселок, и
там оставался до 1946 года. Будучи классным хирургом, профессором медицинского
института, он ездил по Печоре и оперировал большое количество разных пациентов.
Мы с мамой тогда находились в Средней Азии, в эвакуации. Потом вслед за отцом
приехали в Оренбург, тогда он назывался Чкалов.
В 1949-м его
репрессировали снова, и на сей раз он был сослан в Красноярский край, в
Хакасию, в город Черногорск. Мама туда уехала с ним. Я, будучи студентом
Чкаловского медицинского института, пытался перевестись в Красноярский
институт, но не получилось, несмотря на то что был отличником.
Я сидел в приемной
и слышал, как ректор с кем-то разговаривал по телефону: «У меня половина — дети
репрессированных, я его не могу взять».
И я уехал в
Новосибирск, учился там с 1949 года, в 1954-м закончил. В это время освободился
папа. И мы поехали в Пермь — там он заведовал отделением, потом мы вернулись в
Одессу. Отец был полностью реабилитирован. Я так долго живу, что уже не помню
всех деталей.
— После окончания мединститута вы работали врачом в
Пермском крае?
– Да, я работал
врачом в поселке Верхние Мулы, причем врачом «за всё»: был и гинекологом, и
стоматологом, и хирургом.
— Но почему стали невропатологом?
— Потому что в
Новосибирске я был знаком с очень сильными неврологами — профессорами Куимовым
и Шамовской, у которой мы проходили шестой курс, субординатуру. И тогда я
подружился с Борей Фуксом, сейчас он живет в США, это мой неформальный учитель,
с которым я был знаком еще в Новосибирском мединституте. Он учил меня работать.
Мы с ним экспериментировали на животных, на людях.
— Что это были за эксперименты?
— Тогда было ясно,
что любые сердечные болезни требуют дополнительного кровоснабжения сердца,
потому что все они проистекают от кислородной недостаточности сердечной мышцы,
в первую очередь инфаркт. Тогда появились идеи подшивать к сердечной мышце
что-то еще, дополнительно снабжающее ее кислородом. Предлагалась передняя
грудная мышца, сальник, много всяких вариантов. Я как раз занимался этим,
оперировал собак. Отец тогда был в ссылке, я еще учился. Оперировал с ним,
когда приезжал на каникулы. Потом я этих собак перевозил в Новосибирск, на
кафедре анатомии вводил им контраст и смотрел, что получалось с сердцем.
— А как начались ваши эксперименты с животными,
впадающими в зимнюю спячку?
— Когда я работал
в деревне Верхние Мулы, ректором Пермского мединститута был бывший руководитель
Чкаловского мединститута профессор Иван Иванович Косицын, который меня очень
поддерживал, когда отца арестовали. Это был один из немногих людей, который
никак не изменил ко мне отношения как к студенту. Хотя было много народа,
которые, завидя меня, переходили на другую сторону улицы.
На кафедре
Косицына занимались лимфатической системой — смотрели лимфатические узлы у
разных животных. Однажды я увидел там ежа и подумал: почему бы не
поэкспериментировать на зимнеспящих животных, которые впадают в глубокий сон?
Это была, с моей точки зрения, самая интересная работа, которую я вообще
сделал. Но до этого я защитил диссертацию в 59-м.
— А правда, что этой работой потом заинтересовались
американцы и даже проводили космические эксперименты на основе ваших исследований?
— В 1970-м вышла
моя книга, это была докторская диссертация — «Мозг зимнеспящих». В 1972-м ее
перевели на английский. Тогда не было закона об охране авторских прав, можно
было переводить с любого языка, не считаясь с автором. И как-то мне позвонили и
сказали, что пришла книжка, изданная в США. Издатель занимался космическими
исследованиями. Им необходимо было использовать этих животных, чтобы
зондировать космическое пространство, потому что зимнеспящие выдерживали очень
низкую температуру и жесткий рентген. Мои аспиранты уже в четвертом поколении
приходят и говорят: «Тебя опять цитируют!» Очень приятно, что это вошло в
учебники. Это была большая, серьезная работа, но очень тяжелая.
— А как вы пришли к лекарственным веществам —
специфическим белкам мозга?
— Выяснилось, что
мозг зимнеспящих устроен хитрым образом. Если вы обучили его до впадения в
спячку какой-то системе «уроков», то после того, как он впадает в спячку и
температура мозга охлаждается практически до кристаллизации клеток, а потом она
возвращается обратно, оказывается, что все навыки, которым он обучился до
спячки, сохраняются. Тогда, естественно, возникли соображения, что, по всей
видимости, существуют вещества, которые стабилизируют мозг, а значит, их можно
попытаться использовать в лекарственных целях для нейротрофики.
Уже через много
лет после защиты докторской и выхода этой книжки я продолжал заниматься
нейрофизиологией, потом биоуправлением и встретил профессора Олега Ильича
Эпштейна, теперь он член-корреспондент РАН. Он генеральный директор
фармацевтической фирмы «Материя-медика», которая выпускает малодозные
лекарства. К этому времени у меня уже возникли идеи и появились работы, которые
были связаны со стимулирующими мозгоспецифическими белками, которые каким-то
образом активируют работу мозга. Поскольку в это время американцы выделили группу
белков, названную «группой S-100», мы попробовали получить к ним антитела и
использовать их в качестве лекарственных средств. До сих пор фирма «Материя-медика»
выпускает лекарства, выполненные на антителах.
— А вы сами эти лекарства принимаете?
— Да, иногда
принимаю тенотен. Первое лекарство называлось «Пропротен-100» и было связано с
лечением алкогольной интоксикации. Думали, что это поможет ликвидировать
зависимость. Но оказалось, что параллельно это лекарство вызывает очень хороший
противотревожный эффект. И тогда появился тенотен — он продается везде и в
большом количестве стран без рецепта. Очень конкурентоспособный препарат,
потребность к нему была в течение пяти-шести лет огромная, я следил за этим. Он
попадает в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер, этому есть научная
основа. Недавно появилось очередное лекарственное средство на антителах — «Проспекта».
Это препарат антител к антигенам S-100, такие специальные нейротрофические
лекарства достаточно широкого спектра.
— Маркс Борисович, вы производите впечатление
чрезвычайно спокойного человека, которому в жизни уже ничего не страшно.
Неужели у вас бывают тревожные состояния?
— Конечно, они
бывают у каждого человека. Обычно я рекомендую перед экзаменами студентам,
поскольку много лет работал профессором кафедры физиологии в Новосибирском
университете.
— У вас есть еще одно направление научных
исследований, его еще называют «кибернетическим». Можете рассказать, как оно
зародилось и что собой представляет?
— Это работы,
которые начались где-то в 60-е годы прошлого века. Они были связаны с тем, что
хотелось изменить ролевые функции врача и больного.
Обычно больной,
попадая в распоряжение доктора, полностью отдается ему и превращается в объект
влияния: все зависит от квалификации того, кто лечит.
Если она есть, то
удается достичь эффекта, а если нет, а часто бывает, что нет, то система
парализуется.
И возник вопрос:
можно ли поставить пациента в такую же роль, как у доктора, то есть равную? Ты
влияешь на него, а он (пациент) в результате твоего влияния показывает тебе
каким-то образом, что у него меняется система навыков. Это эксперименты,
которые проводились на животных. Они назывались «эксперименты с обратной
связью» — biofeedback technology, когда пациент из пассивного объекта
превращается в субъект процедур. Это и есть формула биоуправления.
— Получается, уравновешиваются роли и оба становятся
равноправными участниками процесса?
— Да, и это
особенно важно в восстановительном режиме, потому что реабилитация — это
надолго. Она менее всего сегодня обеспечена медицинскими средствами — лекарственными,
физическими, интеллектуальными. Это не только у нас, «у них» тоже. Поэтому
возникла необходимость в восстановительный период каким-то образом поместить в
этот контур обратной связи.
— А как это возможно практически?
— А практически
это возможно довольно просто. Я часто привожу пример. Когда женщина
просыпается, смотрит в зеркало и видит себя, как она есть, она говорит себе:
надо сделать чуть-чуть вот это, потом — то, и приводит себя в порядок с помощью
разных ухищрений. Это обратная связь: «вмешиваясь» в свое лицо, она видит, как
оно меняется, и полностью вовлекается в эту приспособительную процедуру. Она
видит результат своего воздействия, и начинается процесс самосовершенствования.
Как процедура
делается: пациента помещают перед компьютером, надевают электроды, которые
могут регистрировать любой физический сигнал. Это может быть сердечный,
мышечный, мозговой параметр. Этот сигнал превращается на мониторе пациента в
какую-то интересную картинку, в игру или в какую-то простую метафору, в
термометр, например, когда столб термометра поднимается и опускается. Надо
добиться того, чтобы он достиг определенной высоты и там остановился. В Америке
это второе национальное достояние после «Звездных войн».
— Они смогли это внедрить?
— Это просто
империя! Десятки тысяч кабинетов обратной связи, в которых работают
преимущественно психологи. Есть Американское общество биоуправления и
прикладной психофизиологии, в котором моя лаборатория состоит с 1996 или 1997
года. Она входит в редакционные советы журналов. До сих пор, когда я бываю в
Америке, общаюсь с этими людьми, потому что это очень интересно, тем более эта
процедура радикально изменилась, она сейчас переживает второе рождение.
— О чем речь?
— Когда вы хотите
изменить работу сердца, например, надеваете кардиографические электроды,
сигналы с которых попадают в компьютер и превращают их в картинку, которая
показывает вам какой-то игровой сюжет — например, гонки на байдарках. И перед
тобой ставится задача: надо выиграть. Каким способом — это твое дело. И пациент
начинает работать с этим изображением. Если он каким-то образом меняет частоту
пульса, которую очень просто зарегистрировать, то он видит, что ему удается
обогнать своего соперника. Причем можно же контролировать рейтинг, создавать
возрастающие нагрузки, менять время, в течение которого нужно выиграть, укорачивать
или увеличивать его.
И пациент начинает
стараться все больше и больше. Вот это типичная форма «интерактивной терапии»,
или «интерактивной стимуляции», как мы уже много лет это называем. Пациент
равен испытателю.
— А где берете приборную базу?
— У нас есть
фирма, уже лет 20, которая делает для этого софт и аппаратуру. Очень много мы
работали в США и в Европе, все мои сотрудники там побывали. Это такое объединение
людей, которые серьезно занимаются этим важным вопросом.
— А в России это где-то развивается?
— Конечно. У нас
регулярно проходит сертификационный семинар, когда мы собираем людей не только
из России, но и из бывших наших республик, из других стран. К нам приезжали
люди из Прибалтики, из Израиля, которые учились этому делу. Мы ведем курс,
вручаем сертификат, у нас есть право сертифицировать людей для этой технологии.
— Звучит хорошо, но на деле, когда мы приходим к
врачу, по-прежнему часто слышим сакраментальное: «А зачем вам это знать? Вы
что, медик?» И где же тут равенство?
— На самом деле
обратная связь в широком смысле присутствует даже у не очень квалифицированного
доктора. Он просто вынужден следить за результатами своего вмешательства. Очень
много людей прошло через наш семинар. В общем, после работ, которые являлись
результатом моей «докторской», сделанной на зимнеспящих, я считаю, что это
вторая работа, за которую не стыдно.
— Как считаете, будущее медицины за этим подходом?
— Конечно. Во
время получения специальности эта система обратной связи, когда больной связан
равными правами с врачом,— единственно верная платформа. Масштабы разные.
Некоторым врачам это не нравится, потому что это индивидуальная работа. Хотя у
нас есть большое число групповых сеансов, которые мы проводили на военных или
спасателях, попадающих в опасную среду. У них должен быть очень развит механизм
саморегуляции. Процедура интерактивной терапии обращена именно к этим механизмам.
У нас эти механизмы потенциально имеются от рождения, но мы ими очень плохо
пользуемся.
— Язык чешется спросить: как научиться искусству
самоконтроля, саморегуляции? Что нужно для этого делать?
— Есть два
варианта. Первый: когда вы полностью попадаете в зависимость от инструкции.
Инструктор — врач или психолог — вас ведет. А есть принципиально иной вариант,
когда вы предлагаете пациенту изменить ситуацию на мониторе в нужную для вас и
для него сторону.
Тебе нужно самому
научиться хорошо себя понимать. Это важное свойство обращаться к своему
ресурсу, который предуготован тебе от рождения, и надо к нему апеллировать.
Сейчас это уже большая наука.
Существует набор
дидактик, практик, подходов к пациенту.
— То есть как женщина, глядя на себя в зеркало,
совершенствует себя внешне, так и человек должен научиться совершенствовать
свой внутренний мир?
— Да. Она может
плюнуть на эту затею и сказать: «Все равно, какая есть, такая и буду». А многие
обратятся к своему ресурсу и скажут: «А если я это изменю, вот какой эффект!»
— Маркс Борисович, мы с вами познакомились на
мероприятии, которое посвящено отчетам молодых ученых о результатах различных исследований
в области нейронаук. Как я знаю, вы как ведущий ученый выиграли грант в этой
области. Это так?
— Три года назад в
Академгородке я познакомился с профессором МФТИ, членом-корреспондентом РАН
Тагиром Аушевым, основателем научного центра «Идея». Я показал ему, что мы
делаем. Он тогда уже был «беременен» идеей об «Идее». Расчет был на то, что
молодой ученый в приличных условиях пройдет аспирантский курс, научится чему-то
и никуда не уедет, останется в России. Эта мысль мне показалась довольно сомнительной:
вот пройдет три года, он окунется в ту жизнь, в которой был до аспирантуры, и
что?
Но Тагир оказался
очень упорным человеком, и в позапрошлом году объявил конкурс человек на 300. А
попало около 20. Вот здесь мы видели первое поколение. Я слежу за этими
ребятами. Это уже вторая такая конференция. Поскольку я постоянно связан с
университетом, студентов вижу уже очень много лет, то могу эту фактуру оценить
сразу, при первом знакомстве. И я вижу, что это люди, которые свободны от
финансовых забот, не «торпедированы» этой вечной материальной недостаточностью,
у них есть необходимость что-то еще делать, и они стимулируют науку очень
сильно.
Для меня это не
так чтобы ново. Мы уже очень давно живем только за счет выигранных грантов, не
за счет бюджета, и люди, которые со мной работают, имеют возможность получать к
своей обычной очень низкой зарплате еще одну или две. Сейчас благодаря гранту
«Идеи» мой аспирант получает прибавку к стипендии в размере 80 тыс. рублей
ежемесячно.
— Неплохо! Расскажите о своей работе, которая выиграла
этот грант. О чем идет речь?
— Речь идет как
раз о том, как развивается эта самая интерактивная терапия, или интерактивная
стимуляция, когда ты сам себя стимулируешь. Она сейчас сместилась к другим
мишеням, а вообще, официально существует на страницах научной литературы со
второй половины прошлого века. Исследователи занимались электроэнцефалографией,
регистрацией электричества, которое рождается в голове, когда она работает, и
выяснилось, что, когда она неактивна, она тоже генерирует электричество,
которым можно волевым усилием управлять: меняя ритмы мозга, вы меняете
поведенческую политику. При одном ритме мозга вы ведете себя таким образом, при
другом ритме — совершенно противоположным.
Вот это работа,
которую делает Дима Безматерных, мой аспирант. Пациент помещен в томограф, есть
контрольная группа добровольцев, есть больные, страдающие депрессией. Задача —
научить депрессивных больных управлять своими эмоциями. У депрессивного
больного главенствуют аффективные структуры, в частности, миндалина. Она
подчиняет себе корковые центры, которые обязаны следить за тем, что у тебя
происходит в глубине. Они оторваны от социума, у них своя жизнь, они ничего не
хотят делать. Эпидемия ХХ века — депрессия. Кстати, в этой работе активно
участвует наш коллега из Йельского университета Юрий Ковш.
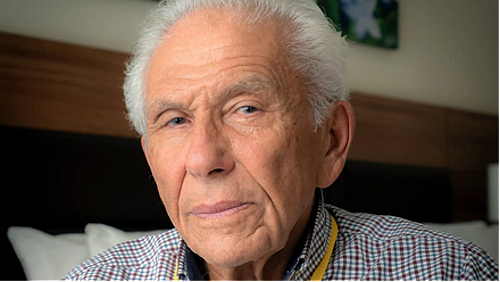
Академик Маркс
Штарк
— Итак, депрессия — эпидемия нашего времени. И что тут
можно сделать?
— Многое нам уже
известно. Известно, например, какие структуры в этом участвуют. Надо
перенаправить это движение, которое идет снизу вверх. Надо изменить его,
сделать так, чтобы миндалина слушалась кору. Его работа посвящена как раз
этому. Он выбирает эти конструкции, визуализирует их, видит структуру, которая
управляет поведением здорового человека и поведением депрессивного, и меняет
взаимоотношения внутри них. Волевым образом. Так, как это делалось еще вне
томографа.
— Получается?
— Да, получается.
Он одаренный парень. Кстати, он и сам был в академотпуске из-за депрессии. Я
его гонял по психотерапевтам.
— И он научился управлять своими эмоциями?
— Да, он сейчас
изменился совершенно. У него жизнь изменилась. Он жил в общежитии, а сейчас у
него появилась семья, любимая женщина. Очень важно жить с любимой женщиной.
Вообще, для того, чтобы долго жить, нужно соблюдать две жизненные концепции:
творчество и любовь.
— Наверное, еще важно, чтобы творчество можно было
каким-то образом реализовать? Очень часто люди впадают в депрессию от того, что
их творческий потенциал не реализуется.
— Тут как раз
наука должна приходить на помощь — она должна прогнозировать ситуацию для этого
человека. Объяснять ему, «что будет, если…». Вообще, на первом месте всегда
наука, в явном или скрытом виде.
Кстати, четыре
года назад мы предложили правительству программу, которая называлась
«Нейронауки — здоровью нации». Программа была великолепная. Всех людей, которые
занимались нейронаукой, мы привлекли, сделали доклад на президиуме Академии
наук. Казалось бы, совершенно очевидная вещь, что все в стране решает
креативность, прогнозируемые, правильные решения. Ты должен смоделировать не
сегодняшнюю ситуацию, а ту, которая будет через день-два, десять, полгода. В
противном случае будешь действовать в интуитивном режиме и ничего хорошего
никогда не получится. Нет, есть люди, у которых интуиция очень богатая. Вот,
например, Костя Анохин (академик Константин Анохин, выдающийся нейробиолог.— «Ъ-Наука»),
с которым мы много сотрудничаем,— очень интуитивный человек. Но даже такие люди
нередко ошибаются. Интуиция — это ненадежный инструмент. Конечно, следует ее
иметь, но это не инструмент познания. Вот научные знания — да.
— И что же ваша программа?
— Не реализовали!
Не нашли понимания. Хотя президент написал «Прошу поддержать». И тогда появился
такой «заменитель», как Тагир Аушев, энтузиаст, который взял эту группу, и уже
третий год идет набор талантливых ребят. Хочется надеяться, что эти люди будут
создавать не только знания, но и соблазн заниматься тем же, чем занимаются они.
— Вам 92 года. Вы путешествуете между Россией и
Америкой, занимаетесь наукой, рассуждаете о любви. Как вам удается сохранять
работоспособность, да еще и способность любить, любопытство и такую прекрасную
физическую форму?
— Я все время
работаю. Я постоянно что-то должен придумывать.
Создается «цепная
система» — каждое новое знание рождает следующее знание.
Сегодня я слушал
три доклада, и у меня возникла совершенно новая идея для ребят, которые
работают в МГУ, в МФТИ. Они ищут формальные решения, чтобы математическими
средствами, с помощью «крючков», графиков и т. д., описать то, что происходит в
голове. Но ведь одновременно существует система, которая работает в мозге и
которую можно увидеть. И я все время задаю им вопрос: почему они не пользуются
одновременно и этими сведениями? Думаю, в России просто нет томографов. Все
томографы, которые есть, работают за деньги. 90% денег идет на поддержание
томографического кабинета. Исследовательской программы для томографов в России
нет. Это очень плохо.
— Какие у вас еще секреты? Может быть, особая диета?
— Нет никакой
диеты. Сладкое люблю, масло ем с удовольствием. Но не курю, не пью. И родители,
наверное, у меня были хорошие. Папа потерял в изоляции много лет, но был очень
интересным человеком. Очень спортивным, музыкальным, играл на всех струнных
инструментах, крутил сальто на турнике. Был очень красивым. Его любили женщины,
и он любил женщин. Это был образцовый человек, с которым я дружил. Мы до его
смерти называли друг друга по имени, я его никогда не называл папой, так же как
и маму.
— А вы крутите сальто?
— Сальто не кручу,
но всегда делаю изнурительную зарядку. Каждый день. Если я ее не сделаю, то
чувствую себя не в своей тарелке. Если мне срочно надо отвлечься, я должен
что-то сделать из нее, какой-то фрагмент. Для «галочки». Я понимаю, что
физически это не приносит результата, но она меня дисциплинирует. Ты движешься
и видишь, что готов действовать. Как говорят мои сотрудники, «ты ликвиден».